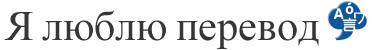- Текст
- История
Зигмунд сразу увидел, как далеко за
Зигмунд сразу увидел, как далеко зашел его друг, искусно переменил разговор и, заметив, что в любви никогда нельзя судить о предмете, прибавил:
— Однако достойно удивления, что у многих из нас об Олимпии примерно одно и то же суждение. Она показалась нам — не посетуй, брат! — какой-то странно скованной и бездушной. То правда, стан ее соразмерен и правилен, точно так же, как и лицо! Ее можно было бы почесть красавицей когда бы взор ее не был так безжизнен, я сказал бы даже, лишен зрительной силы. В ее поступи какая-то удивительная размеренность, каждое движение словно подчинено ходу колес заводного механизма. В ее игре, в ее пении приметен неприятно правильный, бездушный такт поющей машины; то же можно сказать и о ее танце. Нам сделалось не по себе от присутствия этой Олимпии, и мы, право, не хотели иметь с нею дела, нам все казалось, будто она только поступает как живое существо, но тут кроется какое-то особое обстоятельство.
Натанаэль не дал воли горькому чувству, охватившему его было после слов Зигмунда, он поборол свою досаду и только сказал с большою серьезностью:
— Может статься, что вам, холодным прозаикам, и не по себе от присутствия Олимпии. Но только душе поэта открывает себя сходная по натуре организация! Только мне светят ее полные любви взоры, пронизывая сиянием все мои чувства и помыслы, только в любви Олимпии обретаю я себя вновь. Вам, может статься, не по нраву, что она не вдается в пустую болтовню, как иные поверхностные души. Она не многоречива, это правда, но ее скупые слова служат как бы подлинными иероглифами внутреннего мира, исполненными любви и высшего постижения духовной жизни через созерцание вечного потустороннего бытия. Однако ж вы глухи ко всему этому, и слова мои напрасны.
— Да сохранит тебя бог, любезный брат! — сказал Зигмунд с большой нежностью, почти скорбно, — но мне кажется, ты на дурном пути. Положись на меня, когда все… — нет, я ничего не могу больше сказать!..
Натанаэль вдруг почувствовал, что холодный прозаический Зигмунд непритворно ему предан, и с большою сердечностью пожал протянутую ему руку.
Натанаэль совсем позабыл, что на свете существует Клара, которую он когда-то любил; мать, Лотар — все изгладилось из его памяти, он жил только для Олимпии и каждодневно проводил у нее несколько часов, разглагольствуя о своей любви, о пробужденной симпатии, о психическом избирательном сродстве, и Олимпия слушала его с неизменным благоволением. Из самых дальних углов своего письменного стола Натанаэль выгреб все, что когда-либо насочинял. Стихи, фантазии, видения, романы, рассказы умножались день ото дня, и все это вперемешку со всевозможными сумбурными сонетами, стансами и канцонами он без устали целыми часами читал Олимпии. Но зато у него еще никогда не бывало столь прилежной слушательницы. Она не вязала и не вышивала, не глядела в окно, не кормила птиц, не играла с комнатной собачонкой, с любимой кошечкой, не вертела в руках обрывок бумаги или еще что-нибудь, не силилась скрыть зевоту тихим притворным покашливанием — одним словом, целыми часами, не трогаясь с места, не шелохнувшись, глядела она в очи возлюбленному, не сводя с него неподвижного взора, и все пламеннее, все живее и живее становился этот взор. Только когда Натанаэль наконец подымался с места и целовал ей руку, а иногда и в губы, она вздыхала: «Ax-ax!» — и добавляла:
— Доброй ночи, мой милый!
— О прекрасная, неизреченная душа! — восклицал Натанаэль, возвратись в свою комнату, — только ты, только ты одна глубоко понимаешь меня!
— Однако достойно удивления, что у многих из нас об Олимпии примерно одно и то же суждение. Она показалась нам — не посетуй, брат! — какой-то странно скованной и бездушной. То правда, стан ее соразмерен и правилен, точно так же, как и лицо! Ее можно было бы почесть красавицей когда бы взор ее не был так безжизнен, я сказал бы даже, лишен зрительной силы. В ее поступи какая-то удивительная размеренность, каждое движение словно подчинено ходу колес заводного механизма. В ее игре, в ее пении приметен неприятно правильный, бездушный такт поющей машины; то же можно сказать и о ее танце. Нам сделалось не по себе от присутствия этой Олимпии, и мы, право, не хотели иметь с нею дела, нам все казалось, будто она только поступает как живое существо, но тут кроется какое-то особое обстоятельство.
Натанаэль не дал воли горькому чувству, охватившему его было после слов Зигмунда, он поборол свою досаду и только сказал с большою серьезностью:
— Может статься, что вам, холодным прозаикам, и не по себе от присутствия Олимпии. Но только душе поэта открывает себя сходная по натуре организация! Только мне светят ее полные любви взоры, пронизывая сиянием все мои чувства и помыслы, только в любви Олимпии обретаю я себя вновь. Вам, может статься, не по нраву, что она не вдается в пустую болтовню, как иные поверхностные души. Она не многоречива, это правда, но ее скупые слова служат как бы подлинными иероглифами внутреннего мира, исполненными любви и высшего постижения духовной жизни через созерцание вечного потустороннего бытия. Однако ж вы глухи ко всему этому, и слова мои напрасны.
— Да сохранит тебя бог, любезный брат! — сказал Зигмунд с большой нежностью, почти скорбно, — но мне кажется, ты на дурном пути. Положись на меня, когда все… — нет, я ничего не могу больше сказать!..
Натанаэль вдруг почувствовал, что холодный прозаический Зигмунд непритворно ему предан, и с большою сердечностью пожал протянутую ему руку.
Натанаэль совсем позабыл, что на свете существует Клара, которую он когда-то любил; мать, Лотар — все изгладилось из его памяти, он жил только для Олимпии и каждодневно проводил у нее несколько часов, разглагольствуя о своей любви, о пробужденной симпатии, о психическом избирательном сродстве, и Олимпия слушала его с неизменным благоволением. Из самых дальних углов своего письменного стола Натанаэль выгреб все, что когда-либо насочинял. Стихи, фантазии, видения, романы, рассказы умножались день ото дня, и все это вперемешку со всевозможными сумбурными сонетами, стансами и канцонами он без устали целыми часами читал Олимпии. Но зато у него еще никогда не бывало столь прилежной слушательницы. Она не вязала и не вышивала, не глядела в окно, не кормила птиц, не играла с комнатной собачонкой, с любимой кошечкой, не вертела в руках обрывок бумаги или еще что-нибудь, не силилась скрыть зевоту тихим притворным покашливанием — одним словом, целыми часами, не трогаясь с места, не шелохнувшись, глядела она в очи возлюбленному, не сводя с него неподвижного взора, и все пламеннее, все живее и живее становился этот взор. Только когда Натанаэль наконец подымался с места и целовал ей руку, а иногда и в губы, она вздыхала: «Ax-ax!» — и добавляла:
— Доброй ночи, мой милый!
— О прекрасная, неизреченная душа! — восклицал Натанаэль, возвратись в свою комнату, — только ты, только ты одна глубоко понимаешь меня!
0/5000
Зигмунд відразу ж побачив, як далеко пішов його друг, майстерно змінив розмову і, помітивши, що в любові один ніколи не повинні судити тему, додав:Але гідна подиву, що багато хто з нас мають про Олімпія навколо одного судження. Має нам здалося — не posetuj брат! Що це дивний спосіб далеких й безсердечні. Істина є, вона пропорційна млин і правильно, так само, як людина! Його шанував красу, коли її очей не був настільки мляві, я б сказав навіть позбавлені візуальну силу. В її ходою деякі дивовижні регулярності кожен рух як Субординований йти колеса намотування механізму. У її Ігри її спів є помітні неприємних правого, бездушні бити спів машини; те ж саме можна сказати і про її танець. Ми стали незручно на присутність Олімпії і ми, право, не хочете, щоб її справа, ми всі, здавалося, ніби вона тільки поводиться як живою істотою, але тут лежить деякі спеціальні обставина.Натанаїл не дають гіркі почуття охопили його після слів, він подолав своє роздратування тим Зигмунд тільки й говорили з серйозністю bol'shoju:-Може бути, вам холодно письменників а не себе від присутності Olympia. Але тільки душі поета проявляє себе за своєю природою, подібну організацію! Просто мені, її очі повні любові світити, Проникаючи висвітлює всі мої почуття і думки, тільки любов Олімпія набувають я сам знову. Вам може не подобатися, що вона не уточнив порожню балаканину як інші поверхневі душі. Це не mnogorechiva, це правда, але убоге слова служити автентичними символів з внутрішнім світом, любов і вище пізнання духовного життя через споглядання вічне трансцендентне буття. Але f ви глухі на все це і мої слова марно.Так тримати вас Бог милостивий брат! Зігмунд сказав з великою ніжністю, майже вклонявся йому та благав, але мені здається, ти злий способами. Розраховувати на мене коли все... ні, я може нічого не робити більше говорити!Натанаїл раптом відчув, що холодна мирських Зигмунд стрімко знижується він зрадженим і з bol'shoju щирості качати простягнуту руку.Натанаэль совсем позабыл, что на свете существует Клара, которую он когда-то любил; мать, Лотар — все изгладилось из его памяти, он жил только для Олимпии и каждодневно проводил у нее несколько часов, разглагольствуя о своей любви, о пробужденной симпатии, о психическом избирательном сродстве, и Олимпия слушала его с неизменным благоволением. Из самых дальних углов своего письменного стола Натанаэль выгреб все, что когда-либо насочинял. Стихи, фантазии, видения, романы, рассказы умножались день ото дня, и все это вперемешку со всевозможными сумбурными сонетами, стансами и канцонами он без устали целыми часами читал Олимпии. Но зато у него еще никогда не бывало столь прилежной слушательницы. Она не вязала и не вышивала, не глядела в окно, не кормила птиц, не играла с комнатной собачонкой, с любимой кошечкой, не вертела в руках обрывок бумаги или еще что-нибудь, не силилась скрыть зевоту тихим притворным покашливанием — одним словом, целыми часами, не трогаясь с места, не шелохнувшись, глядела она в очи возлюбленному, не сводя с него неподвижного взора, и все пламеннее, все живее и живее становился этот взор. Только когда Натанаэль наконец подымался с места и целовал ей руку, а иногда и в губы, она вздыхала: «Ax-ax!» — и добавляла:-Спокійної ночі, мій милий!— Гарний, невимовного душі! — Натанаїл вигукнув, повернутися до моєї кімнати, тільки ви тільки один глибоко розумієш мене!
переводится, пожалуйста, подождите..
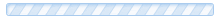
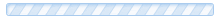
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.
- How about the kitchen?
- I love chips, I do
- посылка не пришла
- у вас большая ферма?
- Ты уже слушал новости по радио? Когда пе
- цель собеседования - найти высокооплачив
- Мой старший брат скоро будет дома.
- я занимаюсь музыкой 5 лет я сочиняю музы
- Мой папа инженерМоя мама домохозяйкаУ ме
- At the age of 22 she joioned the Odeon T
- у вас большая ферма?
- где находится собеседник
- safer environsmen
- Зигмунд не дал ему продолжать, опасаясь,
- Твой попугай говорит что нибудь ? Да все
- Зигмунд не дал ему продолжать, опасаясь,
- ура день мамочки
- Зигмунд не дал ему продолжать, опасаясь,
- грузовик
- Зигмунд не дал ему продолжать, опасаясь,
- Write about what you may do.
- Зигмунд не дал ему продолжать, опасаясь,
- Write about what you may do.
- take out